22.02.2006
Лев Толстой. О Шекспире и о драме (окончание)
VII
 Произведения Шекспира не отвечают требованиям всякого искусства, и, кроме
того, направление их самое низменное, безнравственное. Что же значит та великая
слава, которою вот уже более ста лет пользуются эти произведения?
Произведения Шекспира не отвечают требованиям всякого искусства, и, кроме
того, направление их самое низменное, безнравственное. Что же значит та великая
слава, которою вот уже более ста лет пользуются эти произведения?
Ответ на этот вопрос тем более кажется труден, что если бы сочинения Шекспира
имели хоть какие-нибудь достоинства, было бы хоть сколько-нибудь понятно увлечение
ими по каким-нибудь причинам, вызвавшим неподобающие им преувеличенные похвалы.
Но здесь сходятся две крайности: ниже всякой критики, ничтожные, пошлые
и безнравственные произведения, и безумная всеобщая похвала, превозносящая
эти сочинения выше всего того, что когда-либо было произведено человечеством.
Как объяснить это?
Много раз в продолжение моей жизни мне приходилось рассуждать о Шекспире
с хвалителями его, не только с людьми, мало чуткими к поэзии, но с людьми, живо
чувствующими поэтические красоты, как Тургенев, Фет и др., и всякий раз я
встречал одно и то же отношение к моему несогласию с восхвалением Шекспира.
Мне не возражали, когда я указывал на недостатки Шекспира, но только соболезновали
о моем непонимании и внушали мне необходимость признать необычайное, сверхъестественное
величие Шекспира, и мне не объясняли, в чем состоят красоты Шекспира, а только
неопределенно и преувеличенно восторгались всем Шекспиром, восхваляя некоторые
излюбленные места: расстегиванье пуговицы короля Лира, лганье Фальстафа, несмываемые
пятна леди Макбет, обращение Гамлета к тени отца, сорок тысяч братьев, нет
в мире виноватых и т.п.
"Откройте, - говорил я таким хвалителям, - где хотите или где придется Шекспира,
- и вы увидите, что не найдете никогда подряд десять строчек понятных,
естественных, свойственных лицу, которое их говорит, и производящих художественное
впечатление" (опыт этот может сделать всякий). И хвалители Шекспира открывали
наугад или по своему указанию места из драм Шекспира и, не обращая никакого
внимания на мои замечания, почему выбранные десять строчек не отвечали самым
первым требованиям эстетики и здравого смысла, восхищались тем самым,
что мне казалось нелепым, непонятным, антихудожественным.
Так что вообще я встречал в поклонниках Шекспира, при моих попытках получить
объяснение величия его, совершенно то же отношение, какое встречал и встречается
обыкновенно в защитниках каких-либо догматов, принятых не рассуждением, а
верой. И это-то отношение хвалителей Шекспира к своему предмету, отношение,
которое можно встретить и во всех неопределенно-туманных восторженных статьях
о Шекспире и в разговорах о нем, дало мне ключ к пониманию причины славы
Шекспира. Объяснение этой удивительной славы есть только одно: слава
эта есть одно из тех эпидемических внушений, которым всегда подвергались
и подвергаются люди. Такие внушения всегда были и есть и во всех самых различных
областях жизни. Яркими примерами таких значительных по своему значению и объему
внушений могут служить средневековые крестовые походы, не только взрослых,
но и детей, и частые, поразительные своей бессмысленностью, эпидемические внушения,
как вера в ведьм, в полезность пытки для узнания истины, отыскивание жизненного
эликсира, философского камня или страсть к тюльпанам, ценимым в несколько тысяч
гульденов за луковицу, охватившая Голландию. Такие неразумные внушения всегда
были и есть во всех областях человеческой жизни: религиозной, философской, политической,
экономической, научной, художественной, вообще литературной; и люди ясно видят
безумие этих внушений только тогда, когда освобождаются от них. До тех же пор,
пока они находятся под влиянием их, внушения эти кажутся им столь несомненными
истинами, что они не считают нужным и возможным рассуждение о них. С развитием
прессы эпидемии эти сделались особенно поразительны.
При развитии прессы сделалось то, что как скоро какое-нибудь явление, вследствие
случайных обстоятельств, получает хотя сколько-нибудь выдающееся против других
значение, так органы прессы тотчас же заявляют об этом значении. Как скоро
же пресса выдвинула значение явления, публика обращает на него еще больше внимания.
Внимание публики побуждает прессу внимательнее и подробнее рассматривать явление.
Интерес публики еще увеличивается, и органы прессы, конкурируя между собой,
отвечают требованиям публики.
Публика еще больше интересуется; пресса приписывает еще больше значения.
Так что важность события, как снежный ком, вырастая все больше и больше, получает
совершенно несвойственную своему значению оценку, и эта-то преувеличенная, часто
до безумия, оценка удерживается до тех пор, пока мировоззрение руководителей
прессы и публики остается то же самое. Примеров такого несоответствующего содержанию
значения, которое в наше время, вследствие взаимодействия прессы и публики,
придается самым ничтожным явлениям, бесчисленное количество. Поразительным
примером такого взаимодействия публики и прессы было недавно охватившее весь
мир возбуждение делом Дрейфуса. Явилось подозрение, что какой-то капитан французского
штаба виновен в измене. Потому ли, что капитан был еврей, или по особенным
внутренним несогласиям партий во французском обществе, событию этому, подобные
которым повторяются беспрестанно, не обращая ничьего внимания и не могущим быть
интересными не только всему миру, по даже французским военным, был придан прессой
несколько выдающийся интерес. Публика обратила на него внимание. Органы прессы,
соревнуя между собой, стали описывать, разбирать, обсуживать событие, публика
стала еще больше интересоваться, пресса отвечала требованиям публики, и снежный
ком стал расти, расти и вырос на наших глазах такой, что не было семьи, где бы
не спорили об l'affaire. Так что карикатура Карандаша, изображавшая сперва мирную
семью, решившую не говорить больше о Дрейфусе, и потом эту же семью в виде
озлобленных фурий, дерущихся между собою, совершенно верно изображала отношение
почти всего читающего мира к вопросу о Дрейфусе. Люди чуждой национальности,
ни с какой стороны не могущие интересоваться вопросом, изменил ли французский
офицер, или не изменил, люди, кроме того, ничего не могущие знать о ходе
дела, все разделились за и против Дрейфуса, и как только сходились, так говорили
и спорили про Дрейфуса, одни уверенно утверждая, другие уверенно отрицая его
виновность.
И только после нескольких лет люди стали опоминаться от внушения и понимать,
что они никак не могли знать, - виновен или невиновен, и что у каждого есть
тысячи дел, гораздо более близких и интересных, чем дело Дрейфуса. Такие
наваждения бывают во всех областях, но они особенно заметны в области литературной,
так как, естественно, печать сильнее всего занимается делами печати, и
особенно сильны в наше время, когда печать получила такое неестественное
развитие. Постоянно бывает то, что люди вдруг начинают преувеличенно восхвалять
какие-нибудь самые ничтожные сочинения и потом вдруг, если сочинения эти не
соответствуют царствующему мировоззрению, вдруг становятся совершенно равнодушны
к ним и забывают и самые сочинения, и свое прежнее отношение к ним.
Так на моей памяти, в 40-х годах, было в области художественной возвеличение
и восхваление Евг. Сю, Жорж Занд, в области социальной - Фурье, в области философской
- Конт и Гегель, в области научной - Дарвин.
Сю совсем забыт, Жорж Занд забывается и заменяется писаниями Зола и декадентами
Бодлером, Верленом, Метерлинком и др. Фурье, с своими фаланстерами,
совсем забыт и заменен Марксом: Гегель, оправдывающий существующий порядок,
и Конт, отрицающий необходимость религиозной деятельности в человечестве,
и Дарвин, с своим законом борьбы, еще держатся, но начинают забываться, заменяясь
учением Ничше, хотя и совершенно нелепым, необдуманным, неясным и дурным
по содержанию, но более отвечающим существующему мировоззрению. Так иногда
внезапно возникают и быстро падают и забываются художественные, научные, философские,
вообще литературные наваждения.
Но бывает и то, что такие наваждения, возникнув вследствие особенных, случайно
выгодных для их утверждения, причин, до такой степени соответствуют распространенному
в обществе и в особенности в литературных кругах мировоззрению, что держатся
чрезвычайно долго. Еще во времена Рима было замечено, что у книг есть свои
и часто очень странные судьбы: неуспеха, несмотря на высокие достоинства
их, и огромного, незаслуженного успеха, несмотря на их ничтожество. И было
высказано изречение: pro capite lectoris habent sua fata libelli, то есть что
судьбы книги зависят от понимания тех людей, которые их читают. Таково было
соответствие произведений Шекспира мировоззрению людей, среди которых возникла
эта слава. Удержалась же эта слава и удерживается до сих пор, потому что произведения
Шекспира продолжают отвечать мировоззрению тех людей, которые поддерживают эту
славу.
До конца XVIII столетия Шекспир не только не имел в Англии особенной славы,
но ценился ниже других современных драматургов: Бен Джонсона, Флетчера,
Бомона и др. Слава эта началась в Германии, а оттуда уже перешла в Англию. Случилось
это вот почему.
Искусство, в особенности драматическое искусство, требующее для себя больших
приготовлений, затрат труда, всегда было религиозное, то есть имело целью вызывать
в людях уяснение того отношения человека к богу, до которого достигли в известное
время передовые люди того общества людей, в котором проявлялось искусство.
Так это должно быть по существу дела и так это было всегда у всех народов:
у египтян, индусов, китайцев, греков, с тех самых пор, как мы знаем жизнь людей.
И всегда происходило то, что с огрубением религиозных форм искусство более
и более уклонялось от своей первоначальной цели (при которой оно могло считаться
важным делом - почти богослужением) и вместо религиозного служения
задавалось не религиозными, а мирскими целями удовлетворения требованиям
толпы пли сильных мира, то есть целям развлечения и увеселения.
Это уклонение искусства от своего истинного, высокого назначения происходило
везде, произошло и в христианстве.
Первые проявления христианского искусства были богослужения в храмах: совершение
таинств и самое обычное - литургия. Когда же, со временем, формы этого богослужебного
искусства оказались недостаточными, появились мистерии, изображавшие те события,
которые считались самыми важными в христианском религиозном миросозерцании.
Потом, когда с XIII, XIV веков центр тяжести христианского учения стал все
более и более переноситься из поклонения Христу, как богу, в уяснение его
учения и следование ему, формы мистерий, изображавших внешние христианские
явления, стали недостаточны, и потребовались новые формы. И как выражение
этого стремления явились моралитэ, драматические представления, в которых действующими
лицами были олицетворения христианских добродетелей и противоположных им пороков.
Но аллегория по самому роду своему, как искусство низшего рода, не могла
заменить прежних религиозных драм; новая же форма драматического искусства,
соответствующая пониманию христианства как учения о жизни, еще не была найдена.
И драматическое искусство, не имея религиозного основания, стало во всех христианских
странах все более и более уклоняться от своего высокого назначения и вместо
служения богу стало служить толпе (я разумею под толпой не одно простонародье,
но большинство людей безнравственных или не нравственных и равнодушных к
высшим вопросам жизни человеческой). Содействовало этому уклонению еще и то,
что в это самое время были узнаны и восстановлены неизвестные еще до тех нор
в христианском мире греческие мыслители, поэты и драматурги. И потому, не успев
еще выработать себе ясной, соответствующей новому христианскому мировоззрению,
как учению о жизни, формы драматического искусства и вместе с тем признавая
недостаточной прежнюю форму мистерии и моралитэ, писатели XV, XVI веков в поисках
за новой формой, естественно, стали подражать привлекательным по своему изяществу
и новизне вновь открытым греческим образцам. А так как преимущественно могли
пользоваться в то время драматическими представлениями только сильные мира сего,
короли, принцы, князья, придворные - люди, наименее религиозные и не только
совершенно равнодушные к вопросам религии, но большей частью совершенно
развращенные, то, удовлетворяя требованиям своей публики, драма XV, XVI и XVII
веков уже совершенно отказалась от всякого религиозного содержания. И произошло
то, что драма, имевшая прежде высокое религиозное назначение и только при этом
условии могущая занимать важное место в жизни человечества, стала, как во времена
Рима, зрелищем, забавой, развлечением, но только с той разницей, что в
Риме зрелища были всенародные, в христианском же мире XV, XVI и XVII веков
это были зрелища, преимущественно предназначенные для развращенных королей и
высших сословий. Такова была драма испанская, английская, итальянская и французская.
Драмы этого времени, составлявшиеся во всех этих странах преимущественно
по древним греческим образцам из поэм, легенд, жизнеописаний, естественно
отражали на себе характеры национальностей: в Италии преимущественно выработалась
комедия с смешными положениями и лицами. В Испании процветала светская драма
с сложными завязками и древними, историческими героями. Особенностью английской
драмы были грубые эффекты происходивших на сцене убийств, казней, сражений
и народные комические интермедии. Ни итальянская, ни испанская, ни английская
драма не имели европейской известности, а все они пользовались успехом только
в своих странах. Всеобщею известностью, благодаря изяществу своего языка
и талантливости писателей, пользовалась только французская драма, отличавшаяся
этим следованием греческим образцам и, в особенности, закону трех единств.
Так это продолжалось до конца XVIII столетия. В конце этого столетия случилось
следующее. В Германии, имевшей даже посредственных драматических писателей
(был Ганс Сакс, слабый и мало известный писатель), все образованные
люди, вместе с Фридрихом Великим, преклонялись перед французской псевдоклассической
драмой. А между тем в это самое время появился в Германии кружок образованных,
талантливых писателей и поэтов, которые, чувствуя фальшь и холодность французской
драмы, стали искать новой, более свободной драматической формы. Люди этого кружка,
как и все люди высших сословий христианского мира того времени, находились
под обаянием и влиянием греческих памятников и, будучи совершенно равнодушны
к вопросам религиозным, думали, что если греческая драма, изображая бедствия
и страдания, и борьбу своих героев, представляет высший образец драмы, то и
для драмы в христианском мире такое изображение страданий и борьбы героев будет
достаточным содержанием, если только откинуть узкие требования псевдоклассицизма.
Люди эти, не понимая того, что для греков борьба и страдания их героев
имели религиозное значение, вообразили себе, что стоит только откинуть стеснительные
законы трех единств, и, не вложив в нее никакого религиозного соответственного
времени содержания, драма будет иметь достаточное основание в изображении различных
моментов жизни исторических деятелей и вообще сильных страстей людских. Такая
точно драма существовала в то время у родственного немцам английского народа,
и, узнав ее, немцы решили, что именно такая и должна быть драма нового времени.
Шекспировскую же драму они избрали из всех других английских драм, нимало
не уступавших и даже превосходивших драму Шекспира, по тому мастерству
ведения сцен, которое составляло особенность Шекспира.
Во главе кружка стоял Гете, бывший в то время диктатором общественного мнения
в вопросах эстетических. И он-то, вследствие отчасти желания разрушить
обаяние ложного французского искусства, отчасти вследствие желания дать больший
простор своей драматической деятельности, главное же вследствие совпадения своего
миросозерцания с миросозерцанием Шекспира, провозгласил Шекспира великим поэтом.
Когда же эта неправда была провозглашена авторитетным Гете, на нее,
как вороны на падаль, набросились все те эстетические критики, которые не
понимают искусства, и стали отыскивать в Шекспире несуществующие красоты и
восхвалять их.
Люди эти, немецкие эстетические критики, большей частью совершенно лишенные
эстетического чувства, не зная того простого, непосредственного художественного
впечатления, которое для чутких к искусству людей ясно выделяет это впечатление
от всех других, но, веря на слово авторитету, признавшему Шекспира великим
поэтом, стали восхвалять всего Шекспира подряд, особенно выделяя такие места,
которые поражали их эффектами или выражали мысли, соответствующие их мировоззрениям,
воображая себе, что эти-то эффекты и эти мысли и составляют сущность того, что
называется искусством.
Люди эти поступали так же, как поступали бы слепые, которые ощупью старались
бы находить бриллианты из кучи перебираемых ими камней. Как слепые долго и много
перекладывали бы камушки и в конце концов не могли бы прийти ни к какому другому
выводу, как тот, что все камни драгоценны, особенно же драгоценны самые
гладкие, так и эстетические критики, лишенные художественного чувства,
не могли не прийти к таким же результатам по отношению к Шекспиру. Для
убедительности же своего восхваления всего Шекспира они составляли эстетические
теории, по которым выходило, что определенное религиозное мировоззрение совсем
не нужно для произведения искусства вообще и драмы в особенности, что для внутреннего
содержания драмы совершенно достаточно изображение страстей и характеров людских,
что не только не нужно религиозное освещение изображаемого, но искусство
должно быть объективно, то есть изображать события совершенно независимо от оценки
доброго и злого. А так как теории эти были составлены по Шекспиру, то, естественно,
выходило то, что произведения Шекспира вполне отвечали этим теориям и поэтому
были верхом совершенства.
Вот эти-то люди и были главными виновниками славы Шекспира.
Преимущественно вследствие их писаний произошло то взаимодействие писателей
и публики, которое выразилось и выражается теперь безумным, не имеющим никакого
разумного основания, восхвалением Шекспира. Эти-то эстетические критики
писали глубокомысленные трактаты о Шекспире (написано 11000 томов о нем и составлена
целая наука - шекспирология); публика же все больше и больше интересовалась,
а ученые критики все более и более разъясняли, то есть путали и восхваляли.
Так что первая причина славы Шекспира была та, что немцам надо было противопоставить
надоевшей им и действительно скучной, холодной французской драме более живую
и свободную. Вторая причина была та, что молодым немецким писателям нужен был
образец для писания своих драм. Третья и главная причина была деятельность лишенных
эстетического чувства ученых и усердных эстетических немецких критиков,
составивших теорию объективного искусства, то есть сознательно отрицающую религиозное
содержание драмы.
"Но, - скажут мне, - что разумеете вы под словами: религиозное содержание
драмы? Не есть ли то, чего вы требуете для драмы, религиозное поучение, дидактизм,
то, что называется тенденциозностью и что несовместимо с истинным искусством?"
Под религиозным содержанием искусства, отвечу я, я разумею не внешнее поучение
в художественной форме каким-либо религиозным истинам и не аллегорическое
изображение этих истин, а определенное, соответствующее высшему в данное
время религиозному пониманию мировоззрение, которое, служа побудительной причиной
сочинения драмы, бессознательно для автора проникает все его произведение.
Так это всегда было для истинного художника вообще и для драматурга в особенности.
Так что, как это было, когда драма была серьезным делом, и как это должно
быть по существу дела, писать драму может только тот, кому есть что сказать
людям, и сказать нечто самое важное для людей, об отношении человека к богу,
к миру, ко всему вечному, бесконечному.
Когда же благодаря немецким теориям об объективном искусстве установилось
понятие о том, что для драмы это совершенно не нужно, то очевидно, что
писатель, как Шекспир, не установивший в своей душе соответствующих
времени религиозных убеждений, даже не имевший никаких убеждений, по нагромождавший
в своих драмах всевозможные события, ужасы, шутовства, рассуждения и эффекты,
представлялся гениальнейшим драматическим писателем.
Но это все внешние причины, основная же, внутренняя причина славы Шекспира
была и есть та, что драмы его пришлись pro capite lectoris, то есть соответствовали
тому арелигиозному и безнравственному настроению людей высшего сословия нашего
мира.
VIII
Ряд случайностей сделал то, что Гете, в начале прошлого столетия бывший диктатором
философского мышления и эстетических законов, похвалил Шекспира, эстетические
критики подхватили эту похвалу и стали писать свои длинные, туманные, quasi-ученые
статьи, и большая европейская публика стала восхищаться Шекспиром. Критики,
отвечая на интересы публики, стараясь, соревнуя между собой, писали новые
и новые статьи о Шекспире, читатели же и зрители еще более утверждались в своем
восхищении, и слава Шекспира, как снежный ком, росла и росла и доросла
в наше время до того безумною восхваления, которое, очевидно, не имеет никакого
основания, кроме внушения.
"Шекспир не находит даже приблизительно себе равного ни у старых, ни у новых
писателей". "Поэтическая правда - наиболее блестящий цвет в короне шекспировских
заслуг". "Шекспир - величайший моралист всех времен". "Шекспир обнаруживает такую
разносторонность и такой объективизм, который выдвигает его за пределы времени
и национальности". "Шекспир есть величайший гений, какой только существовал
до сих пор". "Для создания трагедии, комедии, истории, идиллии, идиллической
комедии, исторической идиллии, для самого цельного изображения, как и для
самого мимолетного стихотворения, он - единственный человек. Он не только
имеет неограниченную власть над нашим смехом и слезами, над всеми приемами
страсти, остроты, мысли и наблюдения, но и владеет неограниченной областью полного
фантазии вымысла ужасающего и забавного характера, владеет проницательностью
и в мире выдумок, и в мире реальном, а надо всем этим царит одна и та же
правдивость характеров и природы и одинаковый дух человечности".
"Шекспиру название великого подходит само собой, если же прибавить, что независимо
от величия он сделался еще реформатором всей литературы и, сверх того, выразил
в своих произведениях не только явления жизни ему современные, но еще пророчески
угадал по носившимся в его время лишь в зачаточном виде мыслям и взглядам то
направление, какое общественный дух примет в будущем (чему поразительный пример
мы видим в "Гамлете"), то можно безошибочно сказать, что Шекспир был не
только великим, но и величайшим из всех когда-либо существовавших поэтов
и что на арене поэтического творчества равным ему соперником была лишь та
самая жизнь, которую он изобразил в своих произведениях с таким совершенством".
Очевидная преувеличенность этой оценки убедительнее всего показывает то, что
оценка эта есть последствие не здравого рассуждения, а внушения. Чем ничтожнее,
ниже, бессодержательнее явление, если только оно стало объектом внушения, тем
больше ему приписывается сверхъестественное, преувеличенное значение. Папа не
просто святой, а святейший и т.п. - Шекспир не просто хороший писатель, по
величайший гений, вечный учитель человечества.
Внушение же всегда есть ложь, а всякая ложь есть зло. И действительно, внушение
о том, что произведения Шекспира суть великие и гениальные произведения,
представляющие верх как эстетического, так и этического совершенства, принесло
и приносит великий вред людям.
Вред этот проявляется двояко: во-первых, в падении драмы и замене этого важного
орудия прогресса пустой, безнравственной забавой и, во-вторых, прямым развращением
людей посредством выставления перед ними ложных образцов подражания.
Жизнь человечества совершенствуется только вследствие уяснения религиозного
сознания (единственного начала, прочно соединяющего людей между собою). Уяснение
религиозного сознания людей совершается всеми сторонами духовной деятельности
человеческой. Одна из сторон этой деятельности есть искусство. Одна из частей
искусства, едва ли не самая влиятельная, есть драма.
И потому драма для того, чтобы иметь значение, которое ей приписывается,
должна служить уяснению религиозного сознания. Такою была драма всегда и такою
же была и в христианском мире. Но при появлении протестантства в самом
широком смысле, то есть появлении нового понимания христианства как учения
жизни, драматическое искусство не нашло формы, соответствующей новому пониманию
христианства, и люди Возрождения увлеклись подражанием классическому искусству.
Явление это было самое естественное, но увлечение это должно было пройти, и искусство
должно было найти, как оно и начинает находить теперь, свою новую форму, соответствующую
совершившемуся изменению понимания христианства.
Но нахождение этой новой формы было задержано возникшим среди немецких писателей
конца XVIII и начала XIX столетия учением о так называемом объективном,
то есть равнодушном к добру и злу, искусстве, связанном с преувеличенным
восхвалением драм Шекспира, отчасти соответствовавшим эстетическому учению
немцев, отчасти послужившим для него матерьялом. Если бы не было того преувеличенного
восхищения драм Шекспира, признанных самым совершенным образцом драмы, люди
XVIII и XIX столетий и нынешнего должны были понять, что драма для того,
чтобы иметь право существовать и быть серьезным делом, должна служить, как
это всегда было и не может быть иначе, уяснению религиозного сознания. И,
поняв это, искали бы ту новую, соответствующую религиозному пониманию форму
драмы.
Когда же было решено, что верх совершенства есть драма Шекспира и что нужно
писать так же, как он, без всякого не только религиозного, но и нравственного
содержания, то и все писатели драм стали, подражая ему, составлять те бессодержательные
драмы, каковы драмы Гете, Шиллера, Гюго, у нас Пушкина, хроники Островского,
Алексея Толстого и бесчисленное количество других более или менее известных драматических
произведений, наполняющих все театры и изготовляемых подряд всеми людьми, которым
только приходит в голову мысль и желание писать драму.
Только благодаря такому низкому, мелкому пониманию значения драмы и появляется
среди нас то бесчисленное количество драматических сочинений, описывающих
поступки, положения, характеры, настроения людей, не только не имеющих никакого
внутреннего содержания, но часто не имеющих никакого человеческого смысла*.
Так что драма, важнейшая отрасль искусства, сделалась в наше время только
пошлой и безнравственной забавой пошлой и безнравственной толпы. Хуже же всего
при этом то, что упавшему так низко, как только может упасть, искусству
драмы продолжает приписываться высокое, несвойственное ему значение.
Драматурги, актеры, режиссеры, пресса, печатающая самым серьезным тоном отчеты
о театрах и операх и т. п., - все вполне уверены, что они делают нечто очень
почтенное и важное.
Драма в наше время - это когда-то великий человек, дошедший до последней
степени низости и вместе продолжающий гордиться своим прошедшим, от которого
уже ничего не осталось. Публика же нашего времени подобна тем людям, которые
безжалостно потешаются над этим дошедшим до последней степени низости когда-то
великим человеком.
Таково одно вредное влияние эпидемического внушения о величии Шекспира.
Другое вредное влияние этого восхваления - это выставление перед людьми ложного
образца для подражания.
Ведь если бы про Шекспира писали, что он для своего времени был хороший сочинитель,
что он недурно владел стихом, был умный актер и хороший режиссер, если
бы оценка эта была хотя бы неверная и несколько преувеличенная, но
была бы умеренная, люди молодых поколений могли бы оставаться свободными
от влияния шекспиромании. Но когда всякому вступающему в жизнь молодому человеку
в наше время представляется как образец нравственного совершенства не
религиозные, не нравственные учителя человечества, а прежде всего Шекспир,
про которого решено и передается, как непререкаемая истина, учеными людьми от
поколения к поколению, что это величайший поэт и величайший учитель мира,
не может молодой человек остаться свободным от этого вредного влияния.
Читая или слушая Шекспира, вопрос для него уже не в том, чтобы оценить то, что
он читает; оценка уже сделана. Вопрос не в том, хорош или дурен Шекспир,
вопрос только в том, в чем та необыкновенная и эстетическая и этическая
красота, о которой внушено ему учеными, уважаемыми им людьми, и которой он
не видит и не чувствует. И он, делая усилия над собой и извращая свое эстетическое
и этическое чувство, старается согласиться с царствующим мнением. Он уже не
верит себе, а тому, что говорят ученые, уважаемые им люди (я испытал все это).
Читая же критические разборы драм и выписки из них с объяснительными комментариями,
ему начинает казаться, что он испытывает нечто подобное художественному впечатлению.
И чем дольше это продолжается, тем более извращается его эстетическое и этическое
чувство. Он перестает уже непосредственно и ясно отличать истинно художественное
от искусственного подражания художеству.
Главное же то, что, усвоив то безнравственное миросозерцание, которое проникает
все произведения Шекспира, он теряет способность различения доброго от злого.
И ложь возвеличения ничтожного, не художественного и не только не нравственного,
но прямо безнравственного писателя делает свое губительное дело.
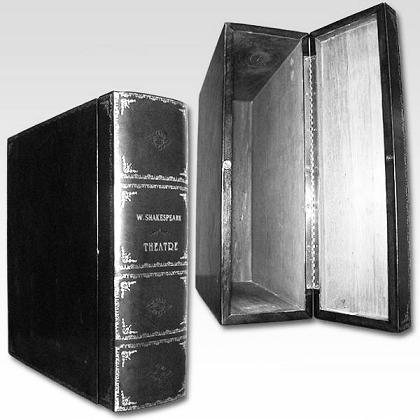
Поэтому-то я и думаю, что чем скорее люди освободятся от ложного восхваления
Шекспира, тем это будет лучше. Во-первых, потому, что, освободившись
от этой лжи, люди должны будут понять, что драма, не имеющая в своей основе религиозного
начала, есть не только не важное, хорошее дело, как это думают теперь, но самое
пошлое и презренное дело. А поняв это, должны будут искать и вырабатывать
ту новую форму современной драмы, той драмы, которая будет служить уяснением
и утверждением в людях высшей ступени религиозного сознания; а во-вторых, потому,
что люди, освободившись от этого гипноза, поймут, что ничтожные и безнравственные
произведения Шекспира и его подражателей, имеющие целью только развлечение и забаву
зрителей, никак не могут быть учителями жизни и что учение о жизни, покуда
нет настоящей религиозной драмы, надо искать в других источниках.
___________
* Пускай не думает читатель, что я исключаю написанные мной случайно театральные
пьесы из этой оценки современной драмы. Я признаю их точно так же, как и все
другие, не имеющими того религиозного содержания, которое должно составлять основу
драмы будущего. (Примеч. Толстого.).
***
Мы закончили публикацию работы Толстого. В дальнейшем мы познакомим вас с болезненной
реакцией британского агитпропа на критику Шекспира. Пока же хотим обратить внимание
на следующее. Лев Толстой был человеком своего времени, и оценивал «шекспироманию»
с точки зрения не историка или политолога, а с точки зрения писателя и литературного
критика. Тем не менее, близкое знакомство с западноевропейской культурой, огромный
литературный дар и житейский опыт маститого старца позволили ему почувствовать
главное – ложь и уродство государственной пропаганды Великобритании. Но он не
сознавал степень предумышленности и сделанности «шекспировского мифа», совершенно
очевидную для людей 21 века. Для человека его времени газеты произрастали в естественном
виде на деревьях. Тайны формирования информационных потоков от обывателей охранялись
в викторианскую эпоху куда сильнее, чем тайны полового размножения от маленьких
детей. До такого додумывались только величайшие умы, в моменты необыкновенных
инсайтов, порождённых личными или национальными катастрофами. Розанов только в
1918 году внезапно понял, что социал-демократическая печать инспирировалась немцами,
мысль эта показалась ему необыкновенно смелой, дерзновенной и даже кощунственной.
Он уподобил рутинную работу с информационными ресурсами «скотоложеству». Неудивительно,
что Толстой девятый вал шекспиромании, являющейся прямым следствием работы пропагандистской
машины богатейшего государства, объясняет причинами психиатрическими, случайными
или даже религиозными.
На самом деле, например, Гёте стал «шекспиристом» вовсе не случайно, а под влиянием
Гердера, который в свою очередь был обработан совершенно сейчас забытым Гаманом.
«Гаманиада» явилась частным следствием англо-французской идеологической войны,
одной из основных сфер приложения которой была территория Германии. В этой борьбе
Франция обладала абсолютным интеллектуальным и культурным превосходством, но Англия
имела достаточно денег для успешного противостояния французской пропаганде, кроме
того англичане играли на понижение и занимались откровенным хулиганством. Это
требовало гораздо меньше ресурсов, результаты же хулиганства мы пожинаем по сей
день. К плодам британского паясничания можно отнести всю «немецкую классическую
философию» - бред отсталых немецких «натурфилософов», оплаченный и раздутый Лондоном,
и Лондоном же всегда осмеиваемый.
Навряд ли Лев Николаевич имел об этом ясное представление. Более того, его творчество
в косвенной форме само стало объектом английских манипуляций. Однако, как известно,
гений гениален даже в своих ошибках. О гениальной «ошибке» Толстого, а именно
о религиозной окраске критики Шекспира мы скажем позднее.